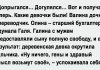Годица, девка красивая уродилась, голубоглазая. Но на роду ей счастье перечёркнуто было небесами. Хоть и назвали её именем таким, вроде удачу знаменующим, да всё напрасно.
Как только пуповязница её приняла, так и запричитала, что не судьба дитю счастье в жизни заполучить. А всё из-за того, что изъян в ребёнке имеется.
Вы спросите, да что ж такого в изъяне? Живут счастливо и хромые, и хвостатые. Те, у кого руки не хватает, или у кого она лишняя. Да только, всё оно так, но у Годицы изъян другого характера был. Не понять было, кем больше она на свет народилась, девкой или парнем. И то, и это у неё было. Вначале-то даже отец еёйный посчитал, что сын у него, уж такое там видное хозяйство было. Годимом назвал было. Да только Годим чуть подрос, а у него и черты и характер девичий. А чуть спустя, так и груди пышные пробиваться начали. Ну, где Годим, там и Годица.
Вот только, народ по деревне шептаться начал. Вроде, пацан родился, а каким-то колдовством из него девка получилась. И оно-то вроде всем больше так, для сплетни у колодца, а сторониться начали девку, своим детям запрещали с ней водиться.
Шло время, о старом вроде и забыли уже. Исполнилось Годице шестнадцать, взрослая совсем. Красивая девка получилась. Высокая, пышногрудая. Коса русая до пояса, стан точёный, лицом с первыми красавицами поспорить может. Ну, хоть иногда красавицами в местах наших и кик болотных назвать можно, но это не из того случая. По-настоящему девка красивая получилась. Парни гуськом за ней бегать начали и каждый мечтал, чтоб с ним была. Да и ей самой уже о любви ночами думалось.
Так получилось, что с сыном кузнеца, Чаеном, дорожки их пересеклись. Ну, а на деревне, оно ведь как. Встретились, посмотрели друг на дружку, и вот она любовь. Да там парням и думать то некогда. Шутка ли, на десяток стручков одна девушка. Как говорится, хватай и на сеновал утаскивай, пока другой не утащил.
Складывалось то хорошо всё. На руках носил, подарки делал, о любви говорил. Да только как до того самого сеновала и дошло, тут то всё и открылось.
Ночь тихая, летняя. Сверчки чирикают под луной, метелики в окошки светлые стучатся, а по деревне Чаен бежит голый и орёт, ну как потерпевший. Успокоили его, отпоили, а он то и бормочет, что рукой схватился за то, чего там не должно быть. Удивились люди, расспрашивать давай. Да только парень как в себя пришёл, замолчал как окунь. И слова из него не вытащить. Стал избегать любимую свою.
Может и на этом позабылось бы всё. Да вот только другие парни подначивать Чаена начали. Да и самой Годице проходу не давали. Шутки в след кричали, что вроде лицом она красива, а под юбкой страх такой, что сын кузнеца чуть в обмороке не поседел. А одним днём и вовсе зашутились. У реки втроём приловили девку, да вроде как в шутку просить начали, чтоб юбку задрала, чтоб показала, чего там ужасного такого. Да заигрались, раззадорились на хмельную голову.
На землю повалили, рот зажали. Давай с неё одежду стягивать, да и с себя заодно. Только вот до того, чтоб снасильничать, дело не дошло. Как юбку с девки сдёрнули, да как увидали, что у неё болтается хозяйство. Да такое, что поболе чем у них будет, так враз протрезвели. Свирепыми стали и начали ногами пинать так, вроде убить готовы. Сильно помяли рёбра девке, места живого не оставили. Две луны из хаты не выходила, встать не могла.
Да только и на этом злоключения её не закончились. Чёрная хворь по округе прошла, да кто-то из деревенских с собой в деревню и занёс её. Болеть люди начали, умирать. Кто-то возьми и брякни, что виной всему Годица. Вроде она не только телом своим отвратная, но и мыслями. Не приняла как должное, что за уродство её побили, да вот хворь на жителей и наслала. Видать, ведьма она, а может и что похуже. Да и кто-то упомянул, что ведьмы часто так и бабой и мужиком могут быть. И хоть раньше о таком и не слыхивал никто, все согласились, что так оно и есть. Кто-то даже рассказал, что самому такое пришлось видеть.
А тут ещё и родители, из-за того, что деревенские проходу не дают, на дочь ополчились.
— Лучше бы ты при рождении умерла, или лучше бы я тебя в лес снёс. – заявил как то отец, после того, как мужики на него у изгороди налетели.
— Лучше бы я тебя в утробе вытравила! – кричала мать, вернувшись от колодца вся в слезах. – Одни беды нам от тебя и ничего более.
Обидно девке было, ночами рыдала, да что поделаешь. Чтоб до беды не доводить, ночью тёмной тихо девка встала с кровати, косу себе ножницами отрезала под корень, одёжу отцовскую надела и под защитой темноты огородами из деревни и ушла. Кинулись её утром искать, а её и нет.
Бредёт девка по дорогам день, бредёт другой. Миром любуется, о жизни думает. О том думает, куда податься, да чем заняться. Одними любованиями облаками, да птичками сыт не будешь. Ремесло какое-то нужно. А прервались мысли о будущем тем, что по нужде приспичило. Встала девка на краю дороги, да как мужик нужду справить и решила. Коль природа такую возможность дала, чего не воспользоваться. Да только тут же нашёлся кто-то.
— Эй, парень! – крикнул грубый голос. – Ты чего это наши дороги орошаешь? Да тут и проход у нас платный. Деньги у тебя есть?
Оглянулась Годица, а там двое стоят. На вид, ну разбойники. Быстро нужду справлять закончила, шапку на глаза натянула, да в другую сторону пошла молча. А те не унимаются.
Догнали, путь преградили.
— Ты чего это к уважаемым людям с таким неуважением? – говорит один, что поменьше ростом, да помельче вширь… — Перепутал чего, али важнее нас себя поставил. А ну, Фома, научи желторотого уму-разуму.
Фома напротив, был здоровенной детиной с огромными ручищами. Закатал Фома рукава, ручищи волосатые размял. Одной рукой замахнулся уже, а второй схватил за грудки противника, да застыл. Помял ладонью, помял, да руки одёрнул.
— Ты чего это, Фома? – спрашивает спутник.
— Да вот, Фофан, кажись не парень это. Под рубахой чего-то там у него такое. – отвечает Фома.
— Какое, такое?
— Такое.
— Ну, ты нормально-то сказать можешь?
— Да не могу я. Сам потрогай.
Фофан протянул руку и схватил путника за грудь. Потом протянул вторую руку и тоже схватил. Задумчиво начал мять пальцами. Испуганно одёрнул руки тогда, когда звонко получил по пальцам тонкой ладонью.
— Твою ж в слона. Так это-ж баба. – завопил Фофан.
— Вот и я говорю, баба. – угрюмо промямлил Фома. – Маменька узнает, высечет.
— Что ты говорил? Ты сказал, что там у него такое. – срывая голос заорал Фофан.
— Такое. Маменька ругает сильно, когда я такое титьками называю. Ой, маменьке не говори.
— Так и что мы делать теперь будем? – Фофан начал ходить кругами, нервно заламывая себе пальцы.
— Маменька говорит, что девок обижать нельзя. И в беде бросать нельзя.
— А мы и не обижали. Мы то думали, что парень это. Ну, ошиблись. А она сама и виновата, что ошиблись. Нечего как парень до ветра ходить. А значит, не считается. Не обижали мы её. Пущай своей дорогой шагает, а мы своей.
— А если она расскажет? – Фома осторожно попытался заглянуть в лицо, скрывающееся под шапкой.
— Расскажу. Как есть расскажу, что два мужика здоровых девку беззащитную лапали. А потом в беде бросили. Одну, на дороге, голодную. – резко выпалила Годица, а сама со страха чуть чувств не лишилась.
— Так мы же не нарочно. Правда, Фома? Не нарочно же. Ну, пожалуйста, иди своей дорогой. Маменька узнает, она нам задницы прутом берёзовым исполосует так, что в баньке не присесть будет. – залепетал Фофан.
— И снасильничать угрожали, если сама не соглашусь под вас лечь! – ещё раз рявкнула Годица и почувствовала, как сердечко от такого нахальства её само сильно удивилось и чуть было не застыло.
— Да не было же такого. Ну, ведь не было. Ну, чего ты? Хочешь, я тебе монету дам? Забудем и разойдёмся мирно. Ну не губиииии. – Фофан упал на колени перед девкой, обнял её за ноги и в мольбах прижался щекой. Затем замолчал, потёрся той самой щекой о девку и, отпрянув назад, испуганный уселся в лужу.
— Там, там… — бормотал он.
— Ты чего, Фофан? – Фома попытался поднять брата.
— Там у неё…, у него…, такое.
— Такое? Что там такое?
— Такое. Лучше не трогай.
— Вот что, разбойники с большой дороги! – осмелев девушка подняла с глаз шапку и сделала шаг в сторону братьев, заставив тех попятится. – Коль не хотите, чтоб до матушки вашей молва дошла, что вы девку за титьки трогали. Коль не хотите чтоб по округе разнеслось, что вы парню о хозяйство щеками тёрлись. Ведите меня к матушке своей. Коль вы так трясётесь перед ней, что девку обидели, знать женщина она порядочная.
— Да я-то не тёрся… — возмутился Фома.
— Ой, люди добрые, а чего я сейчас расскажу… — закричала на всю округу Годица.
— Ладно, ладно. Тёрся. – залепетал Фома озираясь вокруг и стыдливо прикрывая лицо ладонью, будто рядом кто-то был ещё.
Все трое шли по дороге. Братья топали чуть впереди, перешёптывались и украдкой оборачивались на свою спутницу. В какой-то момент их шёпот стал громче, перерос в спор. Фофан, тот, что поменьше, о чём-то настаивал и объяснял брату, почему сделать этого сам он не может. Фома ничего не объяснял. Выслушав пламенное шептание брата, он просто помахал у него перед носом огромным кулаком.
— Ладно. Понял. Я спрошу. – тихо пробормотал Фофан и, обернувшись к спутнице, сбавил шаг.
Поравнявшись с девушкой он осторожно заглянул ей под шапку. Голубые глаза на чумазом лице, на котором были застарелые синяки и запёкшаяся рана на разбитой губе, не очень подходили к образу.
— Так, эм, ты всё-таки девица? Или ты парень? – несмело спросил Фофан.
— Я и сама не знаю. Наверное, больше всё-таки девица.
— А большой как у парня. – задумчиво протянул Фофан, но быстро поправил себя. – В смысле рост. Рост у тебя, как у парня. Вон ты Фоме по росту почти равная. А откуда ты?
— Деревня у стрижиного откоса. Знаешь такую?
— А, стрижиный откос, оттуда. Нет. Не знаю. И что, там у вас все вот такие, ну, со всем. Ну, и с тем, и с этим?
— Не знаю. Наверное, только я такая уродилась.
— Понятно. А у тебя, эм, ну там. Только он? Или она тоже есть?
— А вот сейчас до вашей маменьки дойдём, я ей всё и расскажу.
— Всё, всё. Больше никаких таких вопросов. А звать тебя как? Это же можно спросить?
— Звать меня именем моим можно. А родители меня Годицей назвали.
— Годица. – протянул Фофан. – Красиво. В наших краях таких имён не встречалось.
— В ваших? Так откуда вы?
— Мы издалека. С зимних лесов. – обернулся Фома.
— Тихо ты! Что маменька говорила о том, что нельзя всё незнакомым рассказывать? – зашипел Фофан.
— Так мы же знаем, как звать её. И она знает, как нас звать. Значит познакомились. Я так считаю. – ударился в рассуждения Фома.
— Считает он. Много ты считаешь в последнее время. Ты считал, что парня, что до ветра на дороге пошёл, обобрать легко. И к чему мы пришли по твоим расчётам? – пробормотал Фофан. Сорвав колосок, он зажал его зубами и замолчал.
Дорога была недальняя. Троица свернула в лес. Пробравшись через заросли крапивы и колючего кустарника они оказались в лесном полумраке. Под ногами дышал мягкий лесной ковёр, вокруг пищали комары.
Тянется тропа, извивается, да как нарочно, то тут, то там расходится. Где в две, а где в три стороны. А братья всегда правую выбирают. Долго шли по лесу, да упёрлись в сопку крутую, шиповником заросшую. Вокруг пошли, да у камня большого братья палками ветви кустарника раздвинули, а там проход узкий. А за ним долина небольшая, прямо внутри сопки той.
Смотрит девица, а все тут для жизни есть. И дом, и баня, и курочки землю лапками гребут. Свинки в луже спинки под солнышком греют. Огород не хитрый разбит, кустарник ягодный, груши.
— А какая она, матушка ваша? — спрашивает девка.
— Она у нас самая добрая, сам любящая, смелая, справедливая. Никогда нас даже словом за зря не обидит. — только и успел произнести Фома, как откуда-то из-за хаты послышался бабский голос.
— Это где ж вас, скотины вы безродные, пупки козлиные, бездельники, дурь носила. Ну все, готовьте задницы! Сечь буду! — из-за хаты выбежала некрупная женщина с розгой в руке и что безумная кинулась на братьев. Однако, увидав нежданного гостя, она остановилась и опасливо огляделась по сторонам. — А это что ещё такое?
— Прости, матушка. Пришлось нам привести в дом наш гостя, хоть ты и запретила. — опасливо посматривая на розгу залепетал Фофан.
— Пришлось? Силой вас заставили? — женщина замахнулась.
— Заставили. Иначе грозилась она рассказать, что мы ей титьки мяли. Только не наказывай… — Фома жалостливо смотрел сверху вниз на мать.
— Ой дурак. — прошептал Фофан и закрыл уши руками.
— Это как бы она рассказала, если бы вы её не привели?
— И я дурак тоже. — утвердительно прошептал Фофан осознав, что сама девица дорогу найти бы не смогла.
— Стойте, так это девка, что ли? — женщина сорвала с Годицы шапку и посмотрела ей в глаза. Девушка смотрела на женщину, на розгу в её руке и не знала чего ждать. — Так это вы девке синяков наставили, ещё и за грудь ручищами своими грязными хватали. Ну, я вас сейчас. — матушка размахнулась и приготовилась ударить прутом Фофона.
— Не они это! — закричала девка. — Не били они меня. А руками потискали, так-то я сама виновата, парнем прикинулась.
— Не они? Ну тогда ладно. — присмирела женщина. — Но за то, что грудь девичью словом постыдным назвали, ужина вам не видать, пока свинарник не вычистите! – она замахнулась розгой и, что есть силы, стеганула Фофана по заду.
Годица сидела за столом, ела вкуснейшие в своей жизни щи, которые хозяйка называла супом, и рассказывала о том, что с ней произошло. Не упустила она и момент встречи с братьями, дважды повторив, что намеренно руки они не распускали.
Мать Фомы и Фофана оказалась очень милой и гостеприимной. Уже не молодая, но ещё и не старая. Некрупная, но очень крепкая и даже красивая. Она мало была похожа на местных. Мощные скулы, почти белые волосы, но это была не седина, зелёные глаза. Разрез глаз был очень необычным. Казалось, что женщина немного прищурилась. На левой щеке был старый шрам, будто от пореза. Однако, её он не портил. Скорее наоборот, делал более выразительной. Звали её Киярой.
Как с трапезой было покончено Кияра велела Годице следовать за ней в баню. Сыновья как раз истопили.
Пока хлопотала хозяйка, вещи носила, девушка быстро разделась в предбаннике и, забежав в парную, встала у стены прикрывшись веником. Кияра разделась и вошла следом. Годица не могла упустить, что у той все тело было в старых шрамах. Многие из них выглядели так страшно, что было удивительным, как она выжила.
— А ну, откинь веник. Гляну я, что за там уродство у тебя такое, что мужики на тебя руку посмели поднять. — велела хозяйка. — Ну и? Красивое девичье тело. Кожа ровная, изгибы точёные. Ну а то, что ко всему, что на месте, ещё и придаток имеется, так что теперь, не жить? В ваших местах с хвостами родятся люди, что человеку точно лишнее и бесполезное. А это пустяк, а то и подарок. Там, откуда я родом, подобные тебе встречаются. Не постоянно, но и не редкость. В утробе мамкиной будучи, ты до конца решить не смогла, кем родиться тебе. Ну, так, жить с этим можно. Да и мужика найти можно, кому неважно это. Ты, главное, тех сторонись, кому такое нравится. Вот они дурные. С ними семьи не построить. Ты же, о семье думаешь? Мужики тебе интересны?
— Да я сама ещё и не знаю. Был у меня ухажёр один. Когда обнимал, целовал, на ухо слова добрые шептал, у меня тут щекотало. – девушка положила руку себе на живот. – А вот когда девочки в реке купались нагими, друг друга илом в шутку пачкали, а я подсмотрела не специально, другое чувство было. И он вырос. – она стыдливо показала глазами вниз.
— Знать ещё и рабочее всё. Да уж. Сколько живу на свете, а всё удивляюсь. Мир у нас вроде и один, да и люди везде одинаковые, а как по-разному к ближним относятся. Тебя за это в твоей деревни побили, погнали. А в наших краях тебя бы подарками осыпали. – покачала головой Кияра и жестом велела Годице ложиться на полок. Распарив веник, она погоняла его по воздуху и начала хлопать им девку по спине.
– Такие, как ты встречаются, но не так, что бы очень часто. Отец мой, он из мужей учёных был, всё путь по замёрзшему морю искал на другую землю, да и сгинул где-то там, про таких так говорил. Будто, когда обычные люди совсем плодиться перестанут, такие вот, как ты, род человеческий и продлят. Видишь ли, как уж у тебя, я конечно не знаю, но в наших краях такие девки, или парни, поди да разбери, большой ценностью обладают. Вот не может баба брюхатиться. Хоть пять, хоть десять мужиков у неё было, а всё одно. А с такой как ты одну ночь проведёт и всё, луну спустя полощет её уже. Да и сами девки, такие как ты, плодовитые очень. Нечета простому люду.
— А твои края, где это? И почему ты не там? – поинтересовалась Годица.
— Мои то? Мои края далеко. В землях, где зима такая суровая, что как тут в исподнем по нужде до места отхожего не выбежать. Зато лето там жарче. Живность другая там у нас, слоны мохнатые по лесам бродят. Да ты и не знаешь, что это такое. Вот тут вы деревнями обособленно живёте, хуторами. Каждый сам за себя. А в наших краях мы племенами живём. В одном племени много деревень может быть, и все подчиняются шаману. А не там я, а тут, да вот, из-за сыновей.
— Мааам, — послышалось протяжное под банным окошком. – мы свинарник вычистили. Можно нам поесть?
— Вот ещё. Вы там в дерьме по уши извалялись и за стол хотите? К ручью ступайте, помойтесь. Мы как выйдем, попаритесь, а потом и за стол. – велела Кияра.
— Сурова ты с ними очень. – улыбнулась Годица.
— Ну а иначе нельзя. Не хочу, чтоб в отца пошли. Умом они не шибко вышли, а сил и глупости хоть отбавляй. Фофан то ещё так, серединка на половинку, а Фома хоть с виду и добрый, недалёкий, да только от отца в нём бесноватость сидит. Если себя потеряет, дел таких натворит. – Кияра вздохнула. – Оттого и тут мы.
В печи трещали паленья. Плеснув воды на каменку Кияра присела на полок и легонько хлопая себя веником начала рассказ.
— Когда батюшка мой сгинул, матушка недолго без него прожила. Осталась я одна. Взял меня в жёны сын шамана. Здоровый мужик, воин, охотник. Была я у него четвёртой женой. Но так, больше как игрушка, как подстилка, когда приспичит. Никакой любви там или чувств и искать не следовало. Пришёл, дело своё сделал, побил. Если злой, то просто побил, высек, а то и ножом полосонул. Ну, уж и не знаю, как я смогла, да двоих сыновей принесла ему. Фофана сперва, а к следующей зиме и Фома народился. Думала, что изменит чего. Две жены его вовсе так и не смогли приплод принести, а у одной только один сын, да и тот дурак. Скакал на палочке, по деревне целыми днями за мухами гонялся. Толи от того, что жена эта мужу моему кровной родственницей была, а может и от того, что сам он изъян в себе имел. Очень уж ярость в нём просыпалась быстро, на месте на пустом.
— Так вот, как узнала та баба, что я второго родила, так и озлобилась. Других жён вокруг себя собрала и проходу мне давать перестали. Да только, жизнь кипит, движется. Мои пацаны подрастать начали. Получилось так, что сын той бабы, что на десять годков старше Фофана был, задираться начал. Да Фофан мой, может и не крупный для наших мест, но отпор дать смог. Осерчал тут дурень, в хату к себе убежал в слезах, да вернулся с копьём отцовским и на Фофана кидаться. А тут и Фома подоспел. Копьё то вырвал, о коленку как тростину переломил, да ярость свою на этом не сдержал. В горло ударил дурака, тот захрипел и к Кондратию, как у вас тут говорят.
— Ну, баба та мужу и нажаловалась. И не столько обида была, что сын умер, она его не любила и сама разок утопить пыталась, сколько злость, что восьмилетка неразумный одним ударом девятнадцатилетнего лба завалил. В наших местах то это возраст воинов опытных. И всё она по деревне трубила, что сынок её просто силы копит, чтоб великие подвиги совершать. А тут вот получилось как, что всей деревне на посмешище.
— Я сыновей в хату спрятала. Затаились. А вечером муж прибежал в ярости. Фофана об косяк головой швырнул, Фому схватил и душить начал. Кричит, что с ним покончит и за нас возьмётся. Подбежала я сзади, нож с ремня его поясного сдёрнула, та его же ножом ему под череп и вогнала. Быстро пацанов собрала и той же ночью мы бежать. Благо, лето было.
— Только вот, даже не знала я куда бежать мне. Шаман не простит такого. Пустит погоню. Да повезло нам. На одном дворе постоялом колдуна встретила. Выведал он у меня всё про беду мою, да сделку предложил. Я под него лягу на ночь одну, а он нас с детьми отправит туда, где не найдут нас даже самые прославленные воины из племени нашего. Так и случилось.
Посадил он утром нас на великую черепаху. Зверь это такой огромный, что на панцире его деревья растут. Этот зверь по миру бродит. Странствуют на нём ищейки колдунов, что кровь молодую отыскивают и молодых колдунов к себе в крепость отвозят. Долго мы с ними путешествовали, да вот привезли они нас в эти леса, тут и оставили. Колдун мне тот приметы дал, как место это найти. Мало тут чего было, разрушено всё временем. Ну, ничего, с сыновьями подняли. А как постарше они стали, так разбойничать по дорогам начали.
Тут то, у вас, разбойники, всё равно что у нас торгаши. Никого не удивляет, никого не беспокоит и не пугает. Бывает, конечно, заиграются и ограбят кого по-крупному. Но я им спуску не даю. За такое наказываю. Розги не жалею. А коль девку какую обидеть вздумают, только в мыслях, так высеку так, что луну сидеть не смогут. Знаю я, что натуру отцовскую перенять могли. Да пусть лучше меня боятся, как огня, пусть ненавидят, чем баб за людей не считают. Да и мужиков им я не сильно разрешаю бить. Так, коль слишком кто выгибается.
— Мааам. – протянулось в два голоса под окошком. – Мы в ручье помылись, замёрзли. Можно нам в баню?
Кияра и Годица, завернувшись в простыни вышли из бани. Перед глазами девки возникла необычная картина. Фома и Фофан стояли голыми перед баней и тряслись от холода, постукивая зубами и шлёпая посиневшими губами. Казалось, что и они не ожидали увидать перед собой румяную девку в одной простыне. Фофан смутился и закрыл руками срам.
Фома тоже смутился, но видимо перепутал что-то и обеими ручищами зажал свой пупок.
Время шло. Годица осталась жить в семье Кияры. По хозяйству помогает, за огородом следит, свинкам спинки чешет. Братья к ней хорошо относятся, только вот руки на расстояние держат. Даже по дружески по плечу похлопать и то лишний раз опасаются. Но, когда мамка не знает, берут с собой девку на промысел свой.
Бывает, затаятся Фома и Фофан в кустах, а Годица по дороге бредёт в платье красивом, вроде гуляет. Завидят торговцы пьяные, что с базара возвращаются, девку одинокую, ну и давай домогаться. Начинают деньгами козырять, товарами дорогими. А тут как из-под земли два лба здоровых и появляются с дубинками наперевес. А ну, мол, чего к сестрице пристали? Зубы в ладошках давно не перебирали. Ну, мужики сразу на попетую, вроде не приставали, а просто девушке красивой подарки хотели сделать. За так, за глаза красивые.
Ну, братья и дают понять, мол, коль хотели подарки сделать, так делайте и радостные ступайте дальше, своей дорогой.
Обратно в своё место тайное возвращаются, обождут, пока Годица переоденется в кустах в простое, да тихонько домой, пока маменька не подловила. А та, ну как назло, с розгами уже и затаилась. Сечь не сечёт сыновей, но отругает. Мол, негоже девку в дела свои бандитские завлекать. А ну, как случится чего? Но, сама-то рада. Знает, что при девчонке не станут они сильно разбойничать, людям лица мять не будут. А знать и беды на голову свою по глупости не навлекут. Так три лета и три зимы и прошло.
Да случилось так, что занемогла Кияра. Поутру яйца в курнике собрать пошла, да там и опустилась на землю. Сидит, рывками короткими отдыхивается, да за сердце держится. В хату занесли, на постель уложили, вроде и отпустило. Отшутилась она, дескать просто съела чего не свежее, сыновей успокоила. Только Годица не поверила ей.
Начала девка расспрашивать мать свою названую, а та и рассказала, что болезнь её застарелая терзает. От мужа досталась, когда бил её. Когда о себе да напомнит, но не шибко. Да только в этот раз сильно прихватило. Видать, первые предвестники того, что сам Кондратий к себе на постой приглашает. Знахарку бы какую, а лучше врачевателя, да только где ж взять.
Тем же вечером, как все спать улеглись, собралась Годица в дорогу. Письмо и матушке и братьям оставила, дескать, чтоб не волновались. Что ненадолго она. Сходит до ближайшей деревни, что в одном дне пути всего, поспрашивает, авось врачеватель какой и найдётся. Тихой сапой из хаты вышла и к ночи уже на дороге была.
Идёт, да только страшно ночью всё. Где птица ночная голос подаст, где топырь полем пробежит, жути наведёт. А тут ещё и туманы опустились. Клубятся по полянам, деревья окутывают, жути нагоняют. Ночь, хоть и не тёмная, а всё одно страшно. Да не так страшно было, как стало. Как из пустоты топот раздался громкий, вроде стадо слобней диких мчится, вот-вот затопчет. Отскочила на край дороги девка, присела и глаза закрыла. А ну, как не заденут её. Только топот тот затих.
— Эй, смотри-ка Буйка, баба. А мне издалеча казалось, мужик идёт. Совсем старым стал, видать. Красавица, ты чего тут по ночам шастаешь? Коль не мрак ты, так опасны прогулки такие. – голос был мягким и приветливым. Девушка обернулась и чуть не оступилась
На большой телеге, нагруженной мешками сидел плюгавенький мужичонка в большой меховой шапке. Запряжён в его телегу был маленький чёрный порося, похожий на дикого борова, но очень уж мелкий даже для домашнего свина. Он тихонько похрюкивал, выпуская ноздрями клубы пара и сверкая жёлтыми глазами.
Поздоровалась Годица, да рассказала, всё как есть. Что шагает она до деревни, что ищет она врачевателя, или ворожку какую. Что маменьке её названой помощь нужна. Извозчик подвести девку согласился.
— Эх, напрасно ты топаешь. Врачеватель там есть, купец выписал его с лугов. Только не отпустит он его. Тот за дочкой купеческой присматривает. Беда с той случилась. Лежит в беспамятстве уже которую луну. Кормят её, насильно заливая еду жидкую. Чем только не лечили, а не пробуждается. – говорит извозчик.
— Поранилась, или удар случился? – поинтересовалась Годица.
— Да нет, тут болезнь другого характера. Спесивая она шибко, горделивая. Людей, кто кругом пониже, в ровню себе не ставит. Вот беда с ней и приключилась. Весной прошлой, батюшка еёйный на ярмарку отправился, а она дома осталась. А так, как девка сама по себе ёнда она та ещё, пока батьки дома нет, ухажёров пяток позвала. Пьют, гуляют, да утехам придаются всласть. Да только гульку их прервал шум какой-то у ворот. Псы залаяли, и стучится кто-то. Испугалась девка, что батюшка вернулся. Ухажёры огородами ушли, а та халат накинула, будто спросонок, да к воротам побежала. Открывает, а там нищий бродяга, слепой совсем, поесть просит или монетку подать. Стоит, миской для сбора перед девкой той трясёт. Взъерепенилась она, что бродяга какой-то убогий ей всё удовольствие испортил, выбила у него из рук миску ту, мелочь всю по грязи раскидав и выругалась как могла. Попросил нищий прощения, на четвереньки опустился и давай руками шарить, монетки из грязи подбирать. А девке и того мало. Взяла да в бок слепого и пнула. А ну, говорит, иди отсюда! – извозчик достал большой пряник и протянул девушке. Та поблагодарила, а в ответ достала из своей сумки свежий пирог с малиной.
— Вот, батюшка, ты тоже угостись. Сама пекла. Так что же дальше то случилось? – спрашивает Годица.
— А ничего хорошего. Поднялся слепец, от ворот на три шага отошёл, повернулся, плюнул и сказал, что быть девке слепой, немой и бесчувственной в жизни, как она слепа, нема и бесчувственна к горю страждущего была. И быть ей такой до тех пор, пока не полюбит её кто-то по-настоящему. Не за красоту, не за ум или умение в постели ублажать, а за то, что просто есть она. Тут-то народ уже сбежался, слышали всё, да не понравилось им, что какой-то бродяга такими проклятьями рассыпается. Погнали палками, камнями. А тут и батюшка её вернулся. За разговорами, да подарками про нищего и забыли. Да только как солнце село, закричала девка, что не слышит, потом закричала, что зрения утратила. Через мгновение онемела. Как крыса слепая по терему пометалась, о стены ударяясь, да без чувств и упала. – извозчик замолчал, откусил добротный кусок от пирога и на лице его появилось изумление. – Надо же, вкуснятина какая.
— Так, а дальше что? – торопила Годица.
— Послал купец мужиков нищего того искать. Нашли его в канаве, за деревней, еле живого. Приволокли. Стал купец требовать, снять проклятье с дочери, потом просить начал и богатство обещать. А затем и вовсе, расправой угрожать. Только нищий головой мотал. Не умею я, говорит, проклятья насылать, не умею и снимать. Само получилось. От злости и обиды. Как подумал, так и вышло. Как полюбит кто её такой, какая есть, так и очнётся она. Осерчал купец и приказал старика повесить. Да только до петли не доволокли. Засмеялся тот, крякнул и окочурился.
— Колдуном, что ли был? – удивилась девка. – Тогда чего так легко с жизнью распрощался?
— Зачем колдуном быть? Обычный человек по судьбе несчастный. Такие люди с виду мирные, и принято считать, что прощают они всех. Да только обида и злость на жестокость людскую копится в них как яд у змеи под клыками. И всё бы ничего, да только как время умирать подходит, яд этот сочиться и начинает. И стоит кому-то поперёк дороги встать или обиду такому человеку нанести, всё что выскажет в сердцах такой человек, сбыться может как проклятье, что ведьмы, да колдуны насылают. Вот и с дочкой купеческой так и вышло. Уж и знахарки приходили, и ведьму с сопок звали, в бане Летавца пытались подманить, авось поможет. Всё напрасно. Выписали врачевателя, тот уж как не прыгает, а не может в чувства девку привести. Только вот и придумал, как жизнь в её теле сохранить, чтоб не умерла с голоду. А всё потому, что не хворь это. Должен кто-то в мире дочку купеческую полюбить. Да так, чтобы не за деньги отцовские, не за красоту. А просто полюбить. Много кто свататься прибегал, за сердце хватались от того, что от взгляда одного влюбились, да только напрасно всё. – извозчик приструнил поросёнка, и телега встала. — Ну, вон туда та деревня. Тут ты быстро дошагаешь, уже вон и рассвет. Может и свезёт тебе и даст какое снадобье врачеватель для матушки твоей, или научит тебя как лечить.
— Спасибо тебе, батюшка и за рассказ, и за дорогу. И за пряник вкусный. Никогда таких не пробовала. – поклонилась девушка.
— И тебе спасибо. И за пирог, и за компанию. И за то, что батюшкой назвала. А то все только мужиком, дедом, да извозчиком кличут. Коль случится тебе в тумане заблудиться таком, что дороги не разобрать, так ты глаза закрой, вокруг себя обернись и Буйку моего покличь по имени. Мы и явимся. Или коль просто помощь нужна будет, или пироги с собой вкусные будут, ты в туман войди, да то, что сказал, сделай. Только ты зазря нас не тягай. Буйка не молод уже по лесу зазря мотаться. – засмеялся извозчик, свистнул и маленький свин как ветер помчался по туманной дороге увлекая за собой телегу, которая быстро растворилась в молочной белизне.
К рассвету дошла Годица до деревни, быстро дом купеческий нашла, в ворота постучалась. Да только не впускают её работники. Говорят, горе в доме, не до путников. Пошла тогда Годица на хитрость.
— Сказали мне, что врачеватель тут у вас живёт, за дочкой купеческой ухаживает. Сказали мне, что не справляется он, что нужна ему помощница. А я как раз работу ищу. Я и стирать, и убирать, и горшки выносить, и немощных обмывать могу. Да мне и много не нужно. Хлеба кусок и место для ночлега. – а сама думает, что ей главное чтоб врачевателя позвали. Может, получится, у него спросить про снадобье какое, что матушку излечит.
Позвали врачевателя, тот виду уставшего лицо за ворота сунул, глянул на девушку украдкой и только сказал, что годна она. Годица даже и понять ничего не успела, как уже вели её по терему. Хозяину представили. Тот велел работникам одёжу ей выдать новую, место для ночлега указать и накормить. А вот про жалование сказал, что врачеватель из своего пусть выделяет. И так уже сколько бьётся, а только разочарование изо дня в день.
Врачеватель привёл девку к дочке купеческой. Та лежит на кровати, вроде и не жива. Велел он омыть больную, да следить за тем, что бы у той дыхание не остановилось. А сам в другую комнату ушёл и уснул там, где присел.
Приготовила Годица воду, тряпки. Сняла рубаху ночную с купеческой дочки и начала её омывать. А сама смотрит и удивляется, насколько у той тело красивое, ровное где надо, пышное где полагается. Ничего лишнего и всё при всём. Да только так засмотрелась, что сама своих мыслей и испугалось. Представилось ей, что она парень. Представилось, как бы было это всё. Да вот так представилось, что у самой тело и отозвалось. Сердце забилось, кровь в висках застучала. Дверь плотнее прикрыла, да рядом на кровать к бессознательной и прилегла.
Две луны жила Годица в тереме купца. Помогала врачевателю во всём, да сама про снадобья и болезни всякие при случае расспрашивала. Каждую минуту свободную тратила, чтоб учиться. Рассказала про матушку свою названую, да только огорчил врачеватель. Объяснил, что по признакам тем разные болезни проявляться могут, и что лечатся они по-разному. Да, чтоб понять, какую и как лечить, надо саму хворую ему лично осмотреть. Да не может он, так как дочку купца должен поддерживать в жизни этой.
Да только вот с самой дочерью купца странности начались происходить. Начали её кормить как то, а у неё еда вся назад льётся, чуть не захлебнулась. На силу дыхание ей восстановили. То красная станет лицом, то озноб её пробивает. А ещё две луны спустя приметили, что живот у хворой округлился. Купец ругать врачевателя начал, дескать залечил дочь так, что хуже ей становится. Тот оправдывался, кровь начал больной пускать и в стёклышки свои что-то рассматривать. И выяснилось, что тяжёлая девка.
Осерчал пущи прежнего купец, хотел, было, врачевателя вздёрнуть на груше, за то, что тот дочь его снасильничал, пока та немощная была. Оправдывался врачеватель, дескать, ничего такого не делал, да и куда там. Он спит то урывками, сил ложку держать не хватает. Но непреклонен был купец. Над кроватью дочери стоит, кулаками размахивает, кричит на врачевателя, да только раз и замолк. Смотрит, а дочь его глаза приоткрыла.
Кинулись к ней, а глаза и вправду открыты. Поморгала и вновь закрыла. Присмирел купец, решил не вешать пока врачевателя, но Годице наказал, чтоб всегда в комнате была, как врачеватель там.
Ещё луна прошла, начала хворая глаза чаще открывать, головой ворочать. А дальше и на звуки стала интерес проявлять, на свет глаза щурить и день тот настал, когда голосом своим пить попросила. Так день за днём живот у неё рос, а сама в себя понемногу приходить начала. Заглядывает как то купец одним утром в комнату, а та на краю кровати сидит и с Годицей разговаривает.
По такому случаю праздник закатили. Купец уж на врачевателя поклёп не пускал. Посчитал, что чудо это, что дочь его без участия мужика брюхатая стала. Дескать, снадобья всякие действие возымели такое необычное. И ведь, сколько она мужиков в свою постель таскала до болезни и ничего. А тут вон как, внука ждать. Родит кровинушку родную, что будет деду отрадой и деда любить будет не за деньги, а просто так, потому что дед. Да на этих разговорах как остолбенели все.
Да вот же оно, проклятье нищего сбылось всё, как есть. Быть девке слепой, немой и бесчувственной, пока не полюбит её кто-то просто за то, что есть она. А у кого любовь такая, кроме как у ребёнка, что родиться готовится? Ему ведь всё равно, красивая мать его или нет, богатая или нищая, добрая или злая. Любит ребёнок мать свою просто так, за то, что та есть в мире.
За праздником шумным и разговорами отвёл врачеватель Годицу в сторонку и начал спрашивать, что сделала она такого? Как получилось всё так. Ну не могли снадобья его и прочие лечения такое действие возыметь. Умолял раскрыть секрет, половину жалования своего, что ему купец заплатил, пообещал. Да только Годица другого хотела.
— Коль пойдёшь со мной и матушку вылечить сможешь, обещаю, что всё как есть расскажу.
Как с купцом простились, в дорогу на рассвете и отправились. Да не пешими, а на телеге, в которую слобень быстрый запряжён был. До нужного места к ночи доехали, девушка велела врачевателю зверя остановить, да телегу на край дороги поставить. Вроде ждать надо.
Ночь прошла, день уж за полдень перешёл. Отошёл врачеватель по нужде, да тут перед ним с дубиной в руках и Фома возник. Схватил он мужика за грудки, тот аж очки свои в собственную лужу уронил. Хотел кулаком приложить, да грабить начать. А тут Годица подбежала. Смотрит, а Фома чернея тучи. Увидал он сестрицу, на колени перед ней упал и заплакал как дитя малое. Рассказал, всхлипывая, что уж и не ждали увидать её. Рассказал, что намедни у матушки опять хворь разыгралась. Упала она и не встаёт. Фофан ухаживать остался, а сам он пошёл на дорогу, в надежде пустой какую ворожку поймать, или врачевателя странствующего. Да как узнал, что мужик, которому он чуть рожу кулаком своим не разрисовал, врачеватель и есть, обрадовался.
Завязали врачевателю глаза, мешок на голову надели и через лес, бегом. Да так, что бедняга чуть сапоги не растерял. На счастье, вовремя успели. Сказал муж учёный, что удар у Кияры случился. Если бы на день-два ещё опоздали, отправилась бы она во владения Кондратия. Но, время есть. Братьев за телегой отправили, а сами за хворой ухаживать начали.
Достал врачеватель пузырьки, иголки разные. Всю женщину истыкал, всю хату бутылками обвешал, и возымело действие. К закату очнулась она, застонала. Три дня не спали, от кровати не отходили, а на четвёртый день заявил муж учёный, что на поправку женщина пошла и всё хорошо теперь с ней будет. Ей, главное, не перетруждаться.
Как и обещала Годица, врачевателю всё как есть рассказала. А так как не очень он поверил, хоть о людях таких и слух встречал, так она ему и показала. Убедился врачеватель, только дар речи потерял на время недолгое. Поутру попросился, чтоб тем же путём, с глазами завязанными вывели его на дорогу, чтоб не знать пути, потому как так всем безопаснее будет и ему самому, в том числе. Попрощались. И решил врачеватель обратно к купцу податься, дескать, наблюдать надо за роженицей и ребёночком. Ну а сам решил, что не просто наблюдать, а изучить надо необыкновение такое.
И вроде всё складно закончилось. Так и жила Годица с Киярой, Фофаном и Фомой. Да только так просто от прошлого не избавиться.
Случилось как то ей на ярмарку большую отправиться. Ну и Фома с ней побрёл. На саму ярмарку не пошёл, шибко опасно тех встретить, кого на дороге обобрал. Затаился в лесу, недалеко. А Годица пошла товары разные смотреть, монету звонкую тратить. Только чувствует, а вроде и следит кто за ней. Да разве разберёшь в толпе. Покупки в руках покрепче сжала и к выходу. Туда, где Фома поджидал. Да только за ограду вышла, схватили её, по голове ударили и в лес потащили.
Очнулась девица к дереву привязанная, а рядом парни из её деревни. Те, что били её. Смеются, пальцами тычут. Кто пощёчину звонкую влепит, кто в лицо плюнет, а кто за платье дернит так, что нитки затрещат.
— Вот и попалась ты ведьма юродливая. Сполна теперь нам заплатишь. – кричит один.
— Сейчас хвороста натаскаем и гореть тебе пол ночи, пока кости не почернеют. – кричит второй.
— А может перед тем ещё и позабавимся, чтоб тебе не скучно было так мир этот покидать. – кричит третий.
— Да за что же вы на меня ополчились? Неужто, провинилась я перед вами тем, что уродилась не такой, как все. Никому зла не желала. Вовсе, с деревни ушла, чтоб вас на злой путь не толкнуть. – взмолилась Годица.
— Она ещё спрашивает, в чём вина её. – взбеленился первый, тот, что был среди них главным. – Да ты же ведьма. Тварь, что среди людей жить права не имеет. И людям и природе ты противна! Да ладно бы в этом только вина твоя. Друга нашего, Чаена, соблазнила, да надругалась над ним. Не вынес он унижения такого. Две зимы страдал, а на третью утопился в реке. Это всё ты виновата в этом. Ты! А ну, мужики, отвязывайте её. Руки рубить будем, а потом на костёр юродливую!
Схватили девку и к дереву упавшему подтащили. Руки на ствол растянули, а тот, что главный, уже и топором замахнулся. Да только не успел. Как из под земли, Фома выпрыгнул из чащи. Топор из рук выхватил, да в башку мужику такому дерзкому и всадил поглубже. Двое других девку бросили, за ножи схватились и в бой.
Смотрит Годица, а Фома как не в себе. Глаза кровью налились, ноздри раздулись. И неважно ему, что противников двое. Что в плечах они ему не сильно уступают. Да, что ножи у них в руках длинные. Как медведь разъярённый кидается, ручищами машет. Одного удачно вдарил так, что тот шагов пять пролетел и на еловый сук как гриб на прутик нанизался. Схватился со вторым, да тот проворнее. Бились долго, кровью кругом всё забрызгали. Плотно схватились в борьбе, да там Фома всю свою силищу и приложил. Башку противнику ручищами сжал, та и лопнула как спелая тыква. Только тогда парень и отдышался, успокоился. На солнце, за деревья прячущееся, посмотрел, на руки свои взглянул. К девице обернулся и на землю опустился. Смотрит Годица, а у Фомы нож в груди торчит. Подбежала к нему, а тот, как щенок нашкодивший смотрит на неё.
— Только матушке, матушке не говори, что я людей побил. Осерчает она, ругаться будет. А врачеватель сказал, что нельзя ей. А я больше не буду. Никогда больше не буду людей бить, обещаю. Это же я тебя защищал. Матушка говорит, что девицу нельзя в беде оставлять, и обижать её нельзя. А они, они обидеть тебя хотели. – как в бреду тараторил Фома.
Помогла девица подняться ему, на дорогу идти надо. А тот всё за своё, мол матушке только не говори, пообещай. А не пообещаешь, так не пойду никуда. А у самого кровь ручьём по рубахе разорванной стекает. На дорогу вышли, а никого нет, у кого и помощи можно попросить. Только смотрит девица, а с поля туман густой надвигается. Кинулась она туда, да как в туман вошла, начала Буйку звать. И крик тот за много сотен шагов слышен был.
Двумя днями позже нашли парней, что из деревни рядом со стрижиным откосом. На увечья посмотрели люди, да сразу и решили, что человек такое сделать не мог. Тут явно сила гнилая постаралась. Видать, прогневали парни силу гнилую. Не стали люди долго возиться. Одну яму на всех выкопали, да там их и засыпали. Ну, а на всякий случай, чтоб мертвяки не поднялись, да бед не наделали, сосновыми кольями к земле пригвоздили их.
Ну а с Фомой всё обошлось. Домчал его извозчик прямо к воротам дома купца. Выбежал врачеватель, спасать кинулся, да потом только рассмеялся. Сказал, что шибко Фома здоровенный, чтоб таким маленьким ножиком его зарезать. Кровь остановил, рану зашил. Напоили Фому брагой, а на утро он уже дочке купца, что с пузом большим с трудом переваливалась, помогал по лестнице спускаться. И та, нос уже не воротила, не говорила, что не её круга парень. Напротив, украдкой у Годицы спросить умудрилась, есть ли кто у Фомы на примете в суженные? Может забвение на ней действие такое возымело, а может и правда, понравился ей Фома. Как малой родился, так свадьбу и сыграли. Простую, по-деревенски. Но Фофан там плясал на славу, да и Кияра с Годицей рады были, что сияли ярче месяца на небе. Как купец молодым супружеские браслеты на руки надел, да благословение дал, так и женаты стали. А сам купец гулять на свадьбе не стал. Кияре знаки внимания выказал, не как просто матери зятя своего, да и побежал внука нянчить и улюлюкать с ним. Малыш крепкий родился, с большими голубыми глазами.
Вы спросите, ну а сама то, Годица, счастье своё нашла? Да тут я и не отвечу. Счастье у каждого своё, да и разное оно. Может и нашла, но это уже история совсем другая. Скорее даже слишком личная, что бы её вот так рассказывать. А то что народу ей небесами написано было несчастной прожить, так это ведь так говорят просто. Оно ведь и не записано нигде, кому какое счастье полагается.