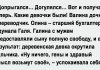У моей сестры умер муж. У младшенькой, всеми балованной. Умер неожиданно быстро. Истаял, как говорят в народе. Вот только был, ходил рядом, шутил, смешно глаза таращил, когда она его фотографировала… И теперь – нет его. Совсем. Нигде.
Как же это? Где же?
Хоть кричи, хоть волком вой, не услышит, не подойдет. Иная у него теперь среда обитания, иные законы существования.

Занедужил несерьезно так, как это, порой, не раз бывало, когда отлежаться нужно несколько деньков. Но не проходило. Врач тоже обнадежил, рецепт выписал – пропейте, ничего страшного. Таблетки обещанного облегчения не принесли и через неделю, и через две. И как сабельным молниеносным ударом наискось по голове – у вас четвертая стадия…
И разлетелась жизнь на мелкие кусочки…
До обморока не верилось. Разве может такое быть? С ним? С тем, кто сильный, выносливый. Вся семья на нем держится-нешелохнется и вдруг – четвертая стадия. Как могли просмотреть, до такого края дотянуть? Винить кого? Себя? Его? Врачей? Те отвечают, что болезнь это такая, коварная, таится до предела, а потом, когда не совладать, выскакивает, как черт из табакерки.
Качнулись жизненные качели – вот было счастье и нет его. Забегали во всех концах знакомых выискивать и знакомых знакомых. Нашли в самой столице лекаря искусного, специалиста по этой самой четвертой стадии, который на прямой вопрос и ответил прямо – медицина срок может отодвинуть, но и измучает. На сколько? В вашем случае на месяц, два. Повезет, то на три. А конец один. Близкий…
Младшенькая наша разом постарела, глаза сухие, лихорадочные, губы отдельно от них страшно улыбаются, в движениях суетливость, под глазами наплыло – не закрасишь… Да иначе как? Горе-то одного рака красит… До последней минуты с ним рядом была, не веря в происходящее с той отчаянной и распоследней надеждой. Последний вздох приняла, омыла-одела. Даже мертвому песню пела, что любил, а все равно не верит, что вдовой стала. Нет-нет, да и оглянется вокруг, всем своим видом спрашивая – где это я, со мной ли это?
Гроб закапывали, стояла на краю черным изваянием, придирчиво следила, чтобы никакой обломок кирпича или клочок целлофана в могилу не попал, потому что муж аккуратист был, если что своими руками сделает, так залюбуешься, без сучка и задоринки. Никак нельзя, чтобы грязные тряпки в его могилу попали, несправедливо это будет…
И весь мир для неё превратился в невероятную пустоту, которая заполнилась свирепой тоской по ушедшему, унесшему с собой и свет, и радость. День сменялся днем, а никакого облегчения от этой ужасающей тоски. Сорок дней подошли, словно целый век проскрипел. Думали, не доживет. Но ведь и дальше жить надо. Решили за стенами дома ей облегчения поискать, увезти от могилы, возле которой безутешно одиноко, словно на привязи, сидит каждый день.
И верно, легче. Аэропорт, все нужно ко времени, все вокруг в движении, так и хочется смешаться с толпой, раствориться среди людей. Сестренка волей неволей в суету людскую окунулась и даже, словно на ощупь, улыбнулась разок нехитрой шутке. А когда перед нею открылась морская даль, наполненная воздухом и криками чаек, и вовсе подарила мне надежду, подставив покорно-ласково морскому ветерку своё лицо.
Взглянула на нее со стороны с болезненной, острой нежностью. Ой-ё! Купальник все равно что на скелет из школьного кабинета зоологии и физиологии одет, разве только шкуркой обтянутый. Села под зонтом, вдаль смотрит. В глазах прежний блеск озлобления и безразличия, за которым ничего нет, кроме безутешной муки. Разговорами лишь отвлекается, но разговоры эти и разговорами не назовешь, одни только вопросы заезженные – за что это, да почему это случилось, да как теперь жить-быть? В сотый раз спрашивает и столько же отвечаешь, а слов нужных для ответов иной раз так и не подберешь. Когда чувств много, то слов мало, чуть невпопад, тут же в каком-то мгновенно вскипевшем отчаянии рукой взмахнет и резко, обреченно-злобно:
– Не говори так!..
Порой её здравый смысл подвергаю сомнению, а порой и сама вдаль смотреть начинаю. А что до слов, то верно, не отражают они той зябкой, мутной, воющей тоски, что в горе человек испытывает. Легковесны. А пословицы – эти в самую точку: « Как пройдет – так дойдет…».
Разве можно изменить то, что ушло? Нет. Только и остаётся, что вопросы задавать одни и те же да сотни раз по кругу.
Словно на вкус пробует сестренка эти слова, все вместе и каждое по отдельности. На слух по одному перебирает:
– Как верно и как страшно – как пройдет, так дойдет… А я, знаешь, еще три месяца назад капризничала, что не так обнял, не так сказал… – запоздало сокрушалась. А потом резко, в крик:
– Я же говорила ему, не смей умирать! Как я без тебя? Ты сильный, ты без меня выживешь, а я без тебя как?
Помолчала, словно сил набираясь, и тихонько, с безнадежной печалью:
– Я и не знала, какая я была счастливая…
И снова, словно камешки во рту, каждое слова медленно проворачивает:
– Как пройдет, так дойдёт… Дошло, дошло…
Тетка веселая, загорелая, шляпку с кружевными полями на глаза надвинула, подошла:
– А что это ты такая худенькая и грустная? Случилось что? У меня в жизни тоже всякое было, а ты, знаешь, надо сразу и разом всё отбросить и забыть. Отбрось – и все…Пусть катится…
Рукой в шоколадном загаре показала, как отбрасывать нужно, энергичным рывком, от колена да оземь.
– У нас такое, что не забудешь… – Поскорее увожу тетку от сестры, которая сидит с лицом, словно каждое слово с неё кожу наждаком сдирает. Вот-вот закричит от боли. Тетка хорошая, в нашем горе не виновная, искренно помочь хотела. Пляж дикий, малолюдный, все у всех на виду. Но там, где праздных, беззаботных людей рядками на лежаках словно сельдей в бочке, ей и вовсе не выжить. Лучшего места, чем дикий пляж, да как можно подальше от отдыхающей толпы, не придумать.
Вода славная, море теплое, но не манит оно сестру, горе не дает ей и в море окунуться. Плаваю сама, на берег посматриваю. Сидит, согнувшись жалобным калачиком, камешки перебирает. Изредка только по бережку пройдет, ноги намочит, и снова ссутулится под зонтом, пристально глядя на волны, одна за другой с упорством сумасшедшего бьющие о берег. Но смотреть на вещи не значит их замечать. Не видит она их.
Как отвлечь? И разве возможно?
Чем ближе к полдню, тем безлюднее становится пляж. Словно тень сиротства, заброшенности ложится на каменистый берег, когда он пустеет. Но сестре в это время становилось легче, словно только и ждала, когда останется наедине с морем. По-прежнему печально, крестом прижав руки к груди, ходит по морскому краешку, но печаль её становилась иной – хорошей печалью. Волны, казалось, тоже успокаивались, без прежней прыти накатывая на берег, словно ластились к ней, глядевшей трогательно долго вверх, на облака.
С ним разговаривает. И море о чем-то упрашивает…
Ночи шумные, беззаконные. Вместо густой черной тишины музыка на все лады из неопрятных кафешек во всю мощь динамиков до самого утра. Как людям с детьми здесь быть? Ни спать, ни сказку на ночь рассказать. Волнами накатывает злой озноб – встал бы и пошел оплеухи отвешивать всем, кто в ночи пьяно визжит и кричит, да тем, кто этой музыкой, с какой-то ехидной усладой, всю округу поливает через мощные динамики. Но не встанешь, не пойдешь, лежишь да слушаешь. Но ведь и она слушает, комочком согнувшись на толсто-упругом хозяйском матрасе, под визгливые крики думу думает, в памяти все перебирает, свою вину со всех сторон рассматривает – когда мимо прошла, где недосмотрела?
Как мне мысли её тяжелые разогнать, как слова подобрать, чтобы лицо её облегченно просветлело? Слово моё, а дело её. Однако подчеркнуто бережно наговариваю, что его нет, но и ты не вечная, тебе жить надо, и прошлое своё ковырять нельзя, нужно оставить прошлое – прошлому, ведь не наказывал он тебя своей смертью, жить оставил…
Жить, жить…
Слово словно потеряло смысл. Из-под него словно выбили опору, и не удерживается оно в её сознании. Задышала, как обиженный ребенок, и тут же так горестно, жадно, хищно:
– А он меня видит? Ты веришь в это? От ночного уличного гама в соседнем номере, хорошо слышно, спасаются сериалами. Мы телевизор, кокетливо прикрытый белой салфеткой, не включаем. Смотреть сериалы ей сейчас все равно, что босиком по осколкам ходить – всякая история, какую ни возьми, о любви да о смерти. Такова жизнь. Хоть бриллиантами себя осыпь с головы до ног или целым миром командуй, а конец человеку один. Еще одна поговорка другим боком, другим смыслом повернулась – от ада не откупиться ни златом, ни серебром, а только добрыми делами…
Но от ада. Не от смерти.
…Как перед снегом все земное пространство мраком наполняется, а утром встанешь – белым-бело вокруг и чисто-чисто, так и в нашем мраке вдруг просвет – одним виноградом была сыта, а тут неожиданно:
– Давай, сходим вечером в кафе… Только туда, где нет музыки…
Возможно ли счастье такое?
Но нашли.
Мужичок светленький, шустренький, каждый шаг свой обозначая легкими шлепками пляжных тапок, улыбнулся на наши слова, что нравится нам, что тихо у них, что музыка не громыхает, и, пристально взглянув на сестру, вдруг предложил тепло, задушевно:
– А давайте я вас угощу домашним хорошим вином, пока вы меню изучаете… Душистое, не пожалеете…
Вот как. Добрые люди они все как родные… Даже о постороннем поговорили.
…Небо было удивительно звездным. Шли, шурша гравием, время от времени останавливаясь, поглядывая то в сторону моря, то на звезды – где он? Там ли? Для чего жизнь? Чему она учит?
Неужели – умирать?
Даже по утрам было много солнца, не ласкового, а жаркого, назойливого. Церковь, перестроенная из сельского клуба, на крышу которого водрузили белую колоколенку со сверкающим куполом, тонкими стенами своими не могла удержать в себе прохладу. Несмотря на утреннее время, спасаясь от духоты, службу вели при настежь распахнутых дверях, но прихожане с детками все равно не торопились вступать внутрь, до поры оставаясь на просторном крыльце.
Густо пахло ладаном, и все вокруг, несмотря на духоту, куда не коснись взглядом, давало покой. Прихожане медленно обходили храм, прикладываясь к иконам, кланялись светло глядевшим на них святым, кончиками пальцев доставая до пола. Захотелось идти вслед за ними, также креститься и кланяться, вглядываться в глаза святых, глядевших и светло, и жалостливо, ища в них ответа на свои неотступные мысли.
Свечи продавала сухонькая, как щепочка, старушка в белом кипенном платочке, отороченном по краю тонким кружевцом. Купили у неё самые дорогие, высокие, благоговея, зажгли их от лампадки, словно в ее огне было что-то более отрадное, усмиряющее душу, чем в трепетных огоньках стоящих рядками свечечек. Колокольней возвысили их над стоящими в рядках остальными, маленькими, тонкими, копеечными. И, не отрывая взгляда от весело взметнувшихся язычков пламени, широко, истово перекрестились.
Сестра тотчас перебралась в незанятый уголок и, став на колени, уронила лицо в ладони и словно окаменела. Батюшка с кадилом, проходя мимо неё, задержался-замешкался, даже чуть поклонился, осенив её густым облаком ладана.
Высокие свечи, разомлев в духоте, медленно, словно у них подгибались колени, клонились в разные стороны. Увидев в этом плохой знак, испуганно подхватила их за самый верх, за горло, и стояла так, держа их повислыми веревками, пока не истаяли.
Как славно класть поклоны, когда душа болит. Каждый поклон – облегчение, каждое слово молитвенное – исповедь, каждый вздох – во все легкие, каждая мысль – откровение. Чистые, высокие женские голоса хора перемежались со словами неторопливых молитв. Приходил недолгий покой.
Пресвятая Богородица, спаси нас…
Решившись, осенила себя крестом, придвинулась ближе, потянулась к её руке, тихонько, боясь быть в тягость в момент, когда беззвучные слезы ручьем:
– Если бы новую жизнь твои слёзы могли дать ему – это бы уже произошло. Потерпи. Всё растворится во времени…
– И память?..
– И память.
– Тогда не хочу!
…Солнечные зайчики плясали по волнам, пушистые тучи, пронизанные лучами солнца, караваном тянулись по краю горизонта, словно посылая привет или сочувствие. Но, может быть, надежду – что всё же придет к ней то, свежее, хорошее, что излечит душу. Небо высоко выгнулось благородной голубизной, редкие безмятежные белые облака, белые, как крылья ангелов, смотрели сверху, и море нашептывало о вечном времени и о том, что не под силу было обозначить ни мыслям, ни словам.
Видит ли? Слышит ли?
Было так хорошо и ясно на душе, что вряд ли будет когда– либо так еще. Стала на берегу лицом к волнам, прижала, как она, крестом руки к груди:
– Море, море, возьми её горе… Хоть немного, хоть капельку… Хоть чуть-чуть…
Пустовойтова Е.