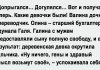Далеко не всегда одинокая старость — следствие бессердечности родителей к детям в былые годы. Очень даже нередко бывает совсем наоборот. Что может быть страшнее одиночества?
В интернате для престарелых — общежитии для немощных и забытых, нашедших здесь последний приют, — больше половины обитателей имеют детей и внуков, да не по одному.
И нередко живут дети не за тридевять земель, а в соседнем городке или деревне. Только не приходят в эти стены, где неистребим тяжелый запах старости, болезней, беспомощности, где витает — и это самое страшное — дух одиночества.
— Я стараюсь поменьше есть, чтобы побыстрее умереть, — доверительно шепчет мне Мария Алексеевна. Маленькая, сухонькая, легкая как пушинка, она ласково трогает мою руку, да так и не отпускает. — Вы поудобнее садитесь,— суетится она, обрадованная вниманием.— Я уж как рада, что за вашу руку подержусь. Она ничего не видит, но чутко прислушивается, улавливает, как меняется настроение навестивших ее, пугается, что те быстро уйдут и оставят ее опять наедине с печальными мыслями…
К Марии Алексеевне никто не приходит. Лишь однажды, полгода назад, навестил сын. Ни разу не были дочери. Да что там приехать, даже письмо написать им некогда.
Рвутся все нити, связывающие Марию Алексеевну с жизнью. Вот и решила: больше жить незачем. Последней каплей, переполнившей чашу ее терпения, стала ссора с соседкой.
Живут они в хорошей, по здешним меркам, комнате на двоих. Сами выбрали друг друга, а теперь вот не ладят. Ситуация, типичная.
— Такие у меня головные боли, дышать нечем. Держу всегда окно открытым, а ей холодно, — тем же шепотом рассказывает Мария Алексеевна. — Ночи спать не могу, задыхаюсь. А она еще и ночной горшок не закрывает… Три раза ее просила: «Встань, закрой», а она рассердилась и давай меня крыть по-всякому, — всхлипывает старушка.— Я теперь уж и не поднимаюсь, в коридор не выхожу, смерть вот жду, а она все не приходит.
Я стараюсь, как могу, отвлечь ее от грустных мыслей. Она веселеет, охотно вспоминает прожитое — не часто этим интересуются.
— Сама-то я нездешняя. У мамки нас было шестеро. Папка сапожничал. Хороший был, но пил. Бывало, идет, орет во всю ивановскую. Мамка тогда нас всех под мышку, кого за руку, кто за ее юбку держится, и прятаться. Как он ее ругал!
Я ростом небольшая была, но работала как взрослая лет уже в семь- восемь. И жала, и косила, и дрова заготавливала. Холод, мороз, а мы в лес идем.
Папкина мать, моя бабушка, приехала из Ленинграда, посмотрела, как живем, и говорит: «Марусь, поедем-ка с нами, я тебе место в няньках там подыщу». Мамка меня ни за что не хотела отпускать, на дорогу гроша не дала. Но я уехала.
Взяли меня в няньки. Хозяйка такая добрая была, лучше родной матери. Приласкает и конфетку даст — жалела меня. Муж ее служил в Кронштадте, командиром корабля. Как приедет на отдых, день и ночь пьет. Его уволили.
Поступил он на завод, опять уволили. Хозяйка говорит: «Маруся, устраивайся на работу куда-нибудь, платить тебе нечем». А куда устраиваться, лет-то мне немного было.
Подрядилась морковку полоть, грызла ее, как заяц, — вот и вся еда. Потом взяли ученицей повара. Там было хорошо. Но потом проверка пришла и отчислила — годами не вышла.
Потом работала на макаронной фабрике. Однажды рукой попала в машину, раздробило кость. До сих пор в этом месте болит. Пока ходила на Перевязку, познакомилась с парнем.
Приду в больницу, а он у входа уже сидит — ждет. Замуж все предлагал. Долго я не решалась. И так-то тяжело, а тут жених… Какой он, Бог его знает. С виду вроде бы неплохой, — высокий, здоровый.
Спросила совета у родственников. «Смотри, — говорят, — сама, тебе с ним жить». Раз иду с ночной смены, а он сидит, поджидает. Как встретил, так больше и не отпустил. В общем, сошлись мы.
Шестеро детей у нас родилось. Трое умерли после войны: двое совсем маленькие, а третьему уже 13 лет минуло, подорвался на мине. Мы тогда в Ленинградской области жили.
Сейчас у меня в живых трое детей: дочка старшая, Тамара, — в Ижевске живет. Младшая, Наташа, тоже в Ижевске. А в Новосокольниках сын Юра, шофер.
Двадцать с лишним лет отработала я на железной дороге. Была своя квартира, жила хорошо, только глаза подвели, стала слепнуть. Муж к тому времени умер. Сын предложил: «Что ты, здесь будешь одна мучиться? Переходи к нам». Жаль, конечно, квартиру было, но все же сдала, с сыном съехалась.
Сначала ничего жили. А когда полностью ослепла, лихо стало. Невестка разные гадости делала, чтобы меня извести, — надоела я им. «Угощала» отравленной едой. Сын смеялся, мол, что ты выдумываешь, а я-то знаю… Скандалы пошли.
Перешла я к старшей дочери. Но вскоре и там чуть не померла: дочь мне что-то дала, у меня живот разболелся… Разве это дочка, если хочет мать на тот свет отправить?
Наверное, действительно у Марии Алексеевны развилась старческая мнительность — вот и казалось ей, что отравить хотят. Нелегко было и окружающим выносить такие фантазии. Но ведь мать! Все силы детям- внукам отдала. А теперь — в доме для престарелых. Не обернется ли отказ от матери злом и для них, ее детей?
— Одна только внучка Лена пишет мне. «Бабушка, я обязательно к тебе приеду. Устрою Аню (это моя правнучка) в садик, пойду на работу, тогда времени у меня будет больше, и я обязательно к тебе приеду». Раньше она меня любила, — продолжает свой печальный рассказ Мария Алексеевна. — Я ее из роддома принесла, растила… Выросла, пошла в продавцы. Работала в магазине. Две растраты у нее произошли… Вытянула у меня все денежки. Но я. ее все равно люблю.
На первых этажах интерната живут ходячие, здоровые (относительно). У большинства комнаты на троих-четверых (хотя нужно бы все палаты на одного-двоих). Они еще всем интересуются, слушают лекции, смотрят кинофильмы, живо обсуждают новости, — кто к кому и зачем приехал.
Эта тема особая — каждый в душе надеется: вдруг, случится, вспомнят и о нем. Кто в силах, подрабатывает в подсобном хозяйстве — в свинарнике или теплице.
В интернате три жилых корпуса, неплохо оборудованные: кинозал, прачечная, баня. Во дворе радуют глаз клумбы. Кажется, живи да радуйся. И все-таки смертность высокая…
— Во время эпидемии гриппа мы боялись утром на работу приходить, — рассказывают работники интерната. — По три человек за сутки умирало.
Но не только от болезней мрут старики. От тоски по дому, по детям от того, что никому не нужны. Особенно трудно приспосабливаться к «казенному дому» сельским жителям. Как пересаженное растение, не могут врасти в новую почву.
— Приезжают они к нам со всем своим скарбом, дорогим им, а мы — приказ: брать только носильные вещи. Сердце кровью обливается, когда видишь, как старушка со своими реликвиями прощается, — будто с жизнью расстается. По-хорошему бы все это через дезкамеру пропустить да и пусть в комнату свою забирают. Но не разрешается, такое правило…
Господи, нам бы подобных правил поменьше, сердечности — побольше Ведь в интернатах доживают свой век и без того настрадавшиеся люди.
Не бросайте своих родителей.